Ольга Птицева
Про Груню и полярный день
рассказ из автофикшн-цикла о детстве на Крайнем Севере
— Груню нам привезут на месяц. Максимум, на два.
Мама повторяла это уверенным голосом, пока плела мне колосок, и каждое слово затягивала вместе с волосами потуже, чтобы я точно запомнила. На месяц. Максимум, на два. Но я ее не слушала. Мне не колол свитер, не тянули хлопковые колготки, не бесил шерстяной сарафан с юбкой колоколом. Я ждала Груню, и вот ее везут.
От города до поселка было четыре часа по тундре. Зимник уже стаял, оголил серые камни и подтопленную холодной водой низину. Из влажной земли пробивались зеленые стрелки пущицы, песцы скидывали белое, чтобы прятаться среди сопок, высматривать куропаток и зайцев. К июню не оставалось снега, только сухой ветер и солнце в зените. Бесконечный день, зыбкий и прозрачный. И через него, по ухабам и болоту, едет и едет синий уазик. А в нем Груня.
— Ты меня слушаешь? — мама зацепила косичку резинкой. — Дядю Юру не дергай, с вопросами не лезь, хорошо?
Дядю Юру я любила. Он был большой и громкий, мог схватить меня поперек живота и поднять в воздух. Чем громче визжишь, тем выше поднимет. И жену его — тетю Нину, я тоже любила. И даже сына Виталика, хоть он и был меня старше на шесть лет и постоянно дулся. Они приезжали из города, привозили красивое — то розовый плед, то новую скатерть на кухню, то баночку крема маме с бабушкой, а мне игрушечную гориллу по имени Чарли. И обязательно показывали фотографии.
— Это мы на море, — говорила тетя Нина, доставая карточку.
Я залезала маме на руки, чтобы рассмотреть, как за желтым песком начинается что-то смазанное и бесконечное, совсем не похожее на речку Катырь под сопкой.
— А это мы в Москву приехали.
И снова карточка, только вся зеленая от деревьев и цветов на клумбах, а Виталька все равно надутый, хоть и держит на руке обезьянку. Почти Чарли, только настоящую.
— Ну потом в Макдональдс пошли, конечно, — смеялась тетя Нина. — Эти только туда и ходили бы.
На фотке эти сидели за крохотным столиком с набитыми ртами. Дядя Юра даже нос вымазал в кетчупе. А Виталька засунул в рот булку, а обертку не снял.
— Так с бумажкой и съел? — спросила я, а Виталька заржал.
— Попробовала бы сама, руки себе до локтя бы отъела.
Я не пробовала и спорить не стала. Потому что на Москву, море и булки с бумагой смотреть мне было не интересно. Я ждала других фотографий. Из города.
— Мы, Ирочка, кухню решили новую заказать, — говорила тетя Нина. — Везли долго, ледокол не успел до конца сезона, вот только-только отгрузили. Пока, конечно, не собрано ничего. Но смотри, столешница какая…
Она все говорила и говорила, а я жадно тянула к себе карточку, рассматривала каждый уголок. Шкафчики, рюшечки, край телевизора, горшок с фиалкой и длинный темный хвост из-под занавески.
— Тетя Нина, — звала я тихонько. — А Грунечку покажите.
— Кошку что ли? — удивлялась она, но вытаскивала из пачки ту самую фотографию, которая была лучше и моря, и Москвы.
Груня сидела на тумбочке, собрав передние лапы перед собой. На узкой мордочке мерцало два круглых глаза — прозрачных и чуть голубых. Темные кончики ушей торчали остро и будто бы подрагивали. Еще чуть, и она спрыгнула бы с тумбочки прямо сюда, к нам на кухню. Подошла бы ко мне, аккуратно переставляя тонкие лапы в черных носочках, и подставила лоб под мою ладонь.
— Статуэточка, конечно, — вздыхала мама.
— Гру-уня, — звала я и долго смотрела на снимок, пока взрослые начинали разливать по бокалам и говорить о своем, то и дело отправляя Витальку смотреть телевизор, чтобы не слушал, чего не надо.
А меня не прогоняли, потому что я и не слушала. Я сидела с фотографией и гладила пальцем Грунины усы.
— Мам, давай кошечку заведем, — просила я, заранее зная, что мама ответит.
Она ставила на сушилку тарелку, вытирала руки и наклонялась ко мне.
— А Надежду куда денем?
Целовала меня в щеку. От нее пахло праздником и взрослыми разговорами. От меня — тоской по кошке, которую мне никогда не разрешат.
— Она же в городе, мам…
Сестрица переехала в общежитие при колледже и появлялась редко, всегда стремительно. Набирала чистого белья и бабушкиных котлет, и уезжала снова. Что ей маленькая кошка, незаметная почти, с хвостиком и лапками в черных носочках.
— Там десяти минут достаточно, с ее-то аллергией, — хмурилась мама. — Сама знаешь, глаза чешутся, дышать нечем. Тебе ее совсем не жалко?
Должно было быть, но не было. Зато было жалко себя, оставшуюся без кошечки. И незнакомую кошечку, что осталась без меня.
— Ну куда здесь кошку? — ворчала бабушка, подставляя табуретку, чтобы я достала банку сухого молока с верхней полки. — Твои же и раздерут.
Мама повторяла это уверенным голосом, пока плела мне колосок, и каждое слово затягивала вместе с волосами потуже, чтобы я точно запомнила. На месяц. Максимум, на два. Но я ее не слушала. Мне не колол свитер, не тянули хлопковые колготки, не бесил шерстяной сарафан с юбкой колоколом. Я ждала Груню, и вот ее везут.
От города до поселка было четыре часа по тундре. Зимник уже стаял, оголил серые камни и подтопленную холодной водой низину. Из влажной земли пробивались зеленые стрелки пущицы, песцы скидывали белое, чтобы прятаться среди сопок, высматривать куропаток и зайцев. К июню не оставалось снега, только сухой ветер и солнце в зените. Бесконечный день, зыбкий и прозрачный. И через него, по ухабам и болоту, едет и едет синий уазик. А в нем Груня.
— Ты меня слушаешь? — мама зацепила косичку резинкой. — Дядю Юру не дергай, с вопросами не лезь, хорошо?
Дядю Юру я любила. Он был большой и громкий, мог схватить меня поперек живота и поднять в воздух. Чем громче визжишь, тем выше поднимет. И жену его — тетю Нину, я тоже любила. И даже сына Виталика, хоть он и был меня старше на шесть лет и постоянно дулся. Они приезжали из города, привозили красивое — то розовый плед, то новую скатерть на кухню, то баночку крема маме с бабушкой, а мне игрушечную гориллу по имени Чарли. И обязательно показывали фотографии.
— Это мы на море, — говорила тетя Нина, доставая карточку.
Я залезала маме на руки, чтобы рассмотреть, как за желтым песком начинается что-то смазанное и бесконечное, совсем не похожее на речку Катырь под сопкой.
— А это мы в Москву приехали.
И снова карточка, только вся зеленая от деревьев и цветов на клумбах, а Виталька все равно надутый, хоть и держит на руке обезьянку. Почти Чарли, только настоящую.
— Ну потом в Макдональдс пошли, конечно, — смеялась тетя Нина. — Эти только туда и ходили бы.
На фотке эти сидели за крохотным столиком с набитыми ртами. Дядя Юра даже нос вымазал в кетчупе. А Виталька засунул в рот булку, а обертку не снял.
— Так с бумажкой и съел? — спросила я, а Виталька заржал.
— Попробовала бы сама, руки себе до локтя бы отъела.
Я не пробовала и спорить не стала. Потому что на Москву, море и булки с бумагой смотреть мне было не интересно. Я ждала других фотографий. Из города.
— Мы, Ирочка, кухню решили новую заказать, — говорила тетя Нина. — Везли долго, ледокол не успел до конца сезона, вот только-только отгрузили. Пока, конечно, не собрано ничего. Но смотри, столешница какая…
Она все говорила и говорила, а я жадно тянула к себе карточку, рассматривала каждый уголок. Шкафчики, рюшечки, край телевизора, горшок с фиалкой и длинный темный хвост из-под занавески.
— Тетя Нина, — звала я тихонько. — А Грунечку покажите.
— Кошку что ли? — удивлялась она, но вытаскивала из пачки ту самую фотографию, которая была лучше и моря, и Москвы.
Груня сидела на тумбочке, собрав передние лапы перед собой. На узкой мордочке мерцало два круглых глаза — прозрачных и чуть голубых. Темные кончики ушей торчали остро и будто бы подрагивали. Еще чуть, и она спрыгнула бы с тумбочки прямо сюда, к нам на кухню. Подошла бы ко мне, аккуратно переставляя тонкие лапы в черных носочках, и подставила лоб под мою ладонь.
— Статуэточка, конечно, — вздыхала мама.
— Гру-уня, — звала я и долго смотрела на снимок, пока взрослые начинали разливать по бокалам и говорить о своем, то и дело отправляя Витальку смотреть телевизор, чтобы не слушал, чего не надо.
А меня не прогоняли, потому что я и не слушала. Я сидела с фотографией и гладила пальцем Грунины усы.
— Мам, давай кошечку заведем, — просила я, заранее зная, что мама ответит.
Она ставила на сушилку тарелку, вытирала руки и наклонялась ко мне.
— А Надежду куда денем?
Целовала меня в щеку. От нее пахло праздником и взрослыми разговорами. От меня — тоской по кошке, которую мне никогда не разрешат.
— Она же в городе, мам…
Сестрица переехала в общежитие при колледже и появлялась редко, всегда стремительно. Набирала чистого белья и бабушкиных котлет, и уезжала снова. Что ей маленькая кошка, незаметная почти, с хвостиком и лапками в черных носочках.
— Там десяти минут достаточно, с ее-то аллергией, — хмурилась мама. — Сама знаешь, глаза чешутся, дышать нечем. Тебе ее совсем не жалко?
Должно было быть, но не было. Зато было жалко себя, оставшуюся без кошечки. И незнакомую кошечку, что осталась без меня.
— Ну куда здесь кошку? — ворчала бабушка, подставляя табуретку, чтобы я достала банку сухого молока с верхней полки. — Твои же и раздерут.
За окном подал голос Мальчик. Рыкнул на кого поменьше, раздался пронзительный скулеж, и снова лай, и топот собачьих лап по сухому коробу. Кошек в поселке почти не держали из-за них — дворовых псов. Разномастных, голодных, стремительных. Я знала, как это бывает. Видела из окна.
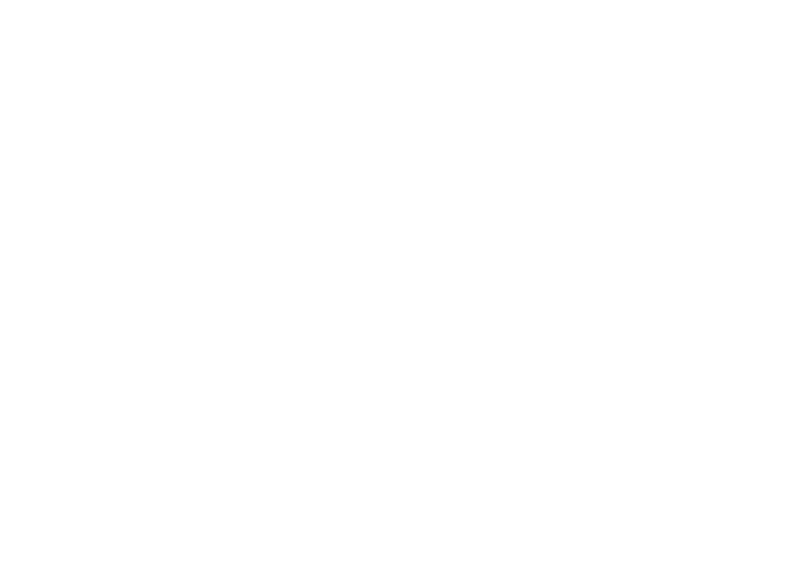
Было утро, но солнце стояло высоко. Во дворе поскрипывала качеля — ветер толкал ее вперед, она настойчиво возвращалась назад. Можно было выйти на крыльцо, постоять там, подышать тундрой, ее запах нес за собой слабый южак от сопок вниз. Можно было посидеть на ступеньках — теплое дерево, холодная железная полоса на ребре. Можно было спуститься к коробу, заглянуть внутрь, вдруг Лайза за ночь успела родить щенят, и они теперь фыркают и скулят, пузатые и сладкие, будто пирожки с капустой.
Но я стояла у окна. Узкую форточку оставили приоткрытой, из нее тянуло прохладцей, по голеням бежали острые мурашки, и я переступала с ноги на ногу. Проснулась бы бабушка, отругала бы за тапки, оставленные под кроватью. Но снаружи было так прозрачно и пустынно, так бесконечно светло и бесшумно. И даже Мальчик, вылезший из-под крыльца, не сломал хрупкого оцепенения. Он тяжело отряхнулся, и к нему тут же устремились другие — черный и поджарый Кол, палевая Беззубка, ярко-рыжий Пуля. Они вылезали из короба, тянулись, скулили тихонечко и шли лизать морду вожаку. Все — лениво и сонно, чуть заторможенно от бесконечного дня.
Я боялась чужих псов. Одичавшие без людей, собаки то уходили далеко в тундру, то возвращались в поселок и скалились, стоило пройти мимо подвала, куда они ползли щениться и зализывать раны. Но стая Мальчика знала крепко, что мы — его люди. Так объяснил мне Виктор Иванович.
— Ты с Мальчиком не шути, — сказал он, опуская говяжью кость в тазик, выбранный бабушкой под дворовую миску. — Он зверюга.
Я ухватила Мальчика за ухо, потянула, тот боднул головой.
— Смотрите как могу. Он ручной совсем!
— Это ты его ручная. Жрать принесешь, блох погоняешь. Хороший человек, евойный. А вот попробуй кость забрать!..
Виктор Иванович наклонился к тазику. Мальчик глухо зарычал, верхняя губа задрожала оголяя десны. Сверкнули клыки.
— Зверюга! — довольно протянул Виктор Иванович и отступил.
Черная шерсть на загривке у Мальчика еще топорщилась, но он уже привалился ко мне боком и опустил тяжелую голову на лапы.
Теперь другие псы вертелись вокруг него, припадая и скуля, а Мальчик смотрел на окна, выжидая, кто первый придет его кормить — бабушка или Виктор Иванович. Я знала, где хранятся кости — на ужин мама тушила оленину, и самый большой мосол оставила для Мальчика. Нужно было достать его и вынести на улицу. Но в окне бокового дома мелькнуло что-то темное, упало на землю и побежало в сторону контейнеров, за которыми начинался обрыв, а дальше река и тундра до самой сопки.
Я не разглядела, но узнала. Сразу поняла. До ледяного озноба. Маркиз жил у тети Тамары из второго подъезда. Тетя Тамара уехала весной, Маркиз остался. Его до осени пристроили к семье Кострыкиных, а я так просила, чтобы к нам.
— Он пушистый, вы чего? — возмутилась Надежда и начала тереть глаза, будто кот уже залез ей на колени. — Совсем меня выгнать хотите?
Кострыкины за котом не следили. То дверь оставят открытой, то форточку. Маркиз запрыгивал на перила, и собаки обступали крыльцо. Их лай несся к сопкам, а зубы щелкали так, что казалось — это выстрелы. Маркиз выгибал спину и смотрел сверху вниз, пока на шум не выходил Виктор Иванович. Он брал Маркиза на руки и уносил в дом. А собаки долго еще перебрехивались. Только в этот раз Виктор Иванович спал после ночной смены на водовозке, и никакой лай не смог бы его разбудить.
— Маркиз! — слабо крикнула я в форточку, пока тот несся от крыльца к контейнерам.
Но мой голос заглушил пронзительный лай. Это Пуля первым заметил добычу и рванул ей на перерез. За ним Кол и Беззубка. Последним неспешно двинулся Мальчик. Залежанный со сна, лохматый и могучий, он даже хвостом махал размеренно. Но я видела, как поползла вверх его губа, как оголились зубы.
— Маркиз! — позвала я, хоть нужно было звать маму.
Кричать изо всех сил. Выходить на улицу самой. Как есть — босиком, в майке и трусиках. Оттаскивать Мальчика, бежать за Пулей, хватать кота за шкирку и укрывать собой. Но я осталась на месте. Псы обступили Маркиза, тот выгнулся и шипел, но Кол уже клацал зубами. Один удар лапы пришелся ему по морде, второй — полоснул воздух. И лапа эта оказалась в собачьей пасти. Маркиз закричал остро и тонко. Абсолютно по-человечьи. С короба лениво вспорхнули две пуночки.
Я смотрела из окна, как псы растягивают пушистое тело. Каждый в свою сторону. И тело рвется со трескучим звуком, словно это бабушка полосует старую простынь на кухонные тряпки.
Мальчик наблюдал за ними со стороны. Когда на камни брызнула кровь, он поднялся и наклонился над разодранной тушкой Маркиза. Я отошла от окна и на цыпочках вернулась в постель. Бабушка проворчала что-то про холодные ноги. Я не расслышала, проваливаясь в сон. А когда проснулась, от Маркиза остались только клоки шерсти. Ветер таскал их по двору. Я на них не смотрела.
Но я стояла у окна. Узкую форточку оставили приоткрытой, из нее тянуло прохладцей, по голеням бежали острые мурашки, и я переступала с ноги на ногу. Проснулась бы бабушка, отругала бы за тапки, оставленные под кроватью. Но снаружи было так прозрачно и пустынно, так бесконечно светло и бесшумно. И даже Мальчик, вылезший из-под крыльца, не сломал хрупкого оцепенения. Он тяжело отряхнулся, и к нему тут же устремились другие — черный и поджарый Кол, палевая Беззубка, ярко-рыжий Пуля. Они вылезали из короба, тянулись, скулили тихонечко и шли лизать морду вожаку. Все — лениво и сонно, чуть заторможенно от бесконечного дня.
Я боялась чужих псов. Одичавшие без людей, собаки то уходили далеко в тундру, то возвращались в поселок и скалились, стоило пройти мимо подвала, куда они ползли щениться и зализывать раны. Но стая Мальчика знала крепко, что мы — его люди. Так объяснил мне Виктор Иванович.
— Ты с Мальчиком не шути, — сказал он, опуская говяжью кость в тазик, выбранный бабушкой под дворовую миску. — Он зверюга.
Я ухватила Мальчика за ухо, потянула, тот боднул головой.
— Смотрите как могу. Он ручной совсем!
— Это ты его ручная. Жрать принесешь, блох погоняешь. Хороший человек, евойный. А вот попробуй кость забрать!..
Виктор Иванович наклонился к тазику. Мальчик глухо зарычал, верхняя губа задрожала оголяя десны. Сверкнули клыки.
— Зверюга! — довольно протянул Виктор Иванович и отступил.
Черная шерсть на загривке у Мальчика еще топорщилась, но он уже привалился ко мне боком и опустил тяжелую голову на лапы.
Теперь другие псы вертелись вокруг него, припадая и скуля, а Мальчик смотрел на окна, выжидая, кто первый придет его кормить — бабушка или Виктор Иванович. Я знала, где хранятся кости — на ужин мама тушила оленину, и самый большой мосол оставила для Мальчика. Нужно было достать его и вынести на улицу. Но в окне бокового дома мелькнуло что-то темное, упало на землю и побежало в сторону контейнеров, за которыми начинался обрыв, а дальше река и тундра до самой сопки.
Я не разглядела, но узнала. Сразу поняла. До ледяного озноба. Маркиз жил у тети Тамары из второго подъезда. Тетя Тамара уехала весной, Маркиз остался. Его до осени пристроили к семье Кострыкиных, а я так просила, чтобы к нам.
— Он пушистый, вы чего? — возмутилась Надежда и начала тереть глаза, будто кот уже залез ей на колени. — Совсем меня выгнать хотите?
Кострыкины за котом не следили. То дверь оставят открытой, то форточку. Маркиз запрыгивал на перила, и собаки обступали крыльцо. Их лай несся к сопкам, а зубы щелкали так, что казалось — это выстрелы. Маркиз выгибал спину и смотрел сверху вниз, пока на шум не выходил Виктор Иванович. Он брал Маркиза на руки и уносил в дом. А собаки долго еще перебрехивались. Только в этот раз Виктор Иванович спал после ночной смены на водовозке, и никакой лай не смог бы его разбудить.
— Маркиз! — слабо крикнула я в форточку, пока тот несся от крыльца к контейнерам.
Но мой голос заглушил пронзительный лай. Это Пуля первым заметил добычу и рванул ей на перерез. За ним Кол и Беззубка. Последним неспешно двинулся Мальчик. Залежанный со сна, лохматый и могучий, он даже хвостом махал размеренно. Но я видела, как поползла вверх его губа, как оголились зубы.
— Маркиз! — позвала я, хоть нужно было звать маму.
Кричать изо всех сил. Выходить на улицу самой. Как есть — босиком, в майке и трусиках. Оттаскивать Мальчика, бежать за Пулей, хватать кота за шкирку и укрывать собой. Но я осталась на месте. Псы обступили Маркиза, тот выгнулся и шипел, но Кол уже клацал зубами. Один удар лапы пришелся ему по морде, второй — полоснул воздух. И лапа эта оказалась в собачьей пасти. Маркиз закричал остро и тонко. Абсолютно по-человечьи. С короба лениво вспорхнули две пуночки.
Я смотрела из окна, как псы растягивают пушистое тело. Каждый в свою сторону. И тело рвется со трескучим звуком, словно это бабушка полосует старую простынь на кухонные тряпки.
Мальчик наблюдал за ними со стороны. Когда на камни брызнула кровь, он поднялся и наклонился над разодранной тушкой Маркиза. Я отошла от окна и на цыпочках вернулась в постель. Бабушка проворчала что-то про холодные ноги. Я не расслышала, проваливаясь в сон. А когда проснулась, от Маркиза остались только клоки шерсти. Ветер таскал их по двору. Я на них не смотрела.
— Надо форточку завязать, чтобы не открывалась, — придумала я, пока мама прятала постельное белье в шкаф.
Она обернулась.
— Зачем?
— Так Груня же убежит, — потянулась к форточке, но окна были длинные и узкие, чтобы южак не мог выбить стекла во время пурги, так просто не захлопнешь.
— У Саляховых окна забиты все, не убежит, — ответила мама и вернулась к своим делам.
Тут же заколол свитер, стали тесными хлопковые колготки и обида поднялась к носу, заколола там соленым.
Она обернулась.
— Зачем?
— Так Груня же убежит, — потянулась к форточке, но окна были длинные и узкие, чтобы южак не мог выбить стекла во время пурги, так просто не захлопнешь.
— У Саляховых окна забиты все, не убежит, — ответила мама и вернулась к своим делам.
Тут же заколол свитер, стали тесными хлопковые колготки и обида поднялась к носу, заколола там соленым.
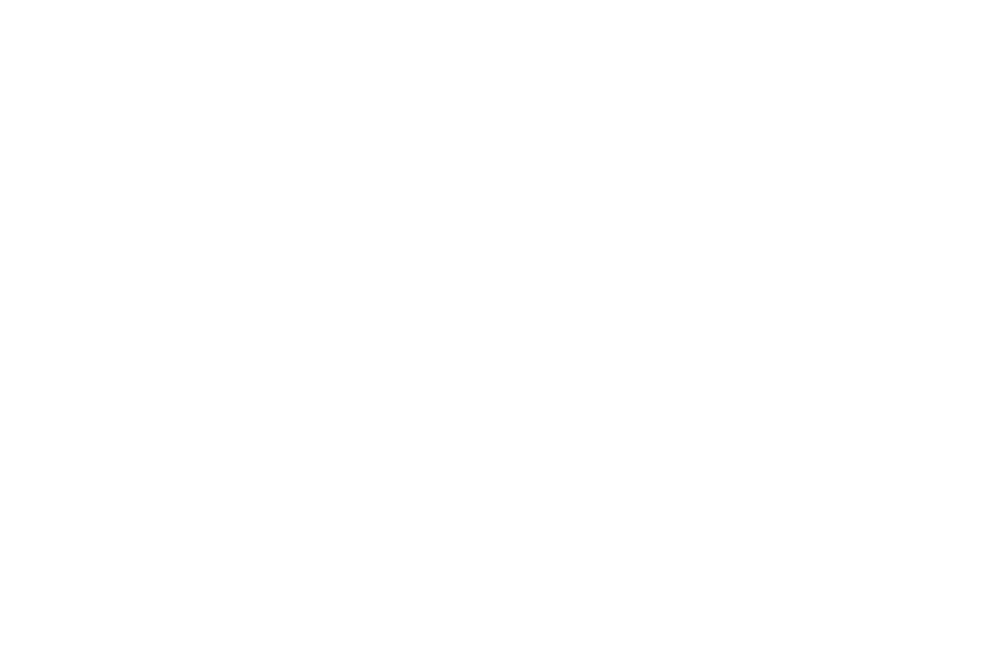
Тетя Нина позвонила в прошлое воскресенье — мы с бабушкой еще спали, а мама уже варила кофе и кормила пуночек из окна. Я прислушалась к разговору. Мама сначала смеялась, потом охала, потом сказала — ну если надо, то конечно, пускай поживет, и повесила трубку. Бабушка тоже проснулась, завозилась под одеялом и пошла узнавать, что за новости там. А я лежала и думала: только бы Груню, только бы Груню, только бы они привезли нам Груню.
И они привезли. Дядя Юра остался в машине, а тетя Нина поставила на тумбочку красную спортивную сумку. Из нее торчали два напряженных кошачьих уха.
— Бабушка слегла, представляешь?.. — начала рассказывать тетя Нина.
Я протянула руку и почти дотронулась до светлого бока с темными шерстинками. Груня вздрогнула всем телом и забилась в угол сумки. Вспыхнули два голубых глаза.
— Осторожно, Лелечка, — попросила тетя Нина. — Она поцарапать может.
Груня услышала ее голос, выглянула наружу, осторожно переступила длинными лапами. Моя рука повисла совсем рядом, дотронуться без спроса я не решалась.
— Мы ее у Саляховых поселим, — сказала мама, наклонилась и опустила ладонь на палевую спинку. Груня выгнулась, уходя от прикосновения. — Калорифер поставим, не замерзнет там, не волнуйся.
Тетя Нина обняла нас всех по очереди, почесала Груню между ушей и вернулась к машине, дядя Юра как раз уже начал сигналить.
— Красивая какая, — протянула мама, разглядывая притихшую кошку. — Отнесешь ее сама? А я следом.
Можно было начать упрашивать. Но слезы щекотали в носу, только слово скажи и расплачешься. А плакать при маме — плохо. Зачем маму расстраивать, Лелечка, подумаешь, кошку нельзя дома оставить, ты чего как маленькая, переставай — обязательно скажет бабушка и тоже расстроится. Я сглотнула слезы, взяла сумку за ручки и потащила по лестнице наверх.
У Саляховых было гулко и пыльно. Окна без штор сквозили прозрачным светом, почти морозным, солоноватым на вкус. Груня выбралась из сумки, прижалась к полу и замерла так. Я стояла в дверях, смотрела, как подрагивает темный кончик ее хвоста. Нужно было возвращаться домой, там бабушка уже разогрела макароны по-флотски, и от плитки тянуло горячим воздухом — в соседской квартире у меня мигом замерзли ладони и уши, но мама уже поднялась к нам. Скрипнула дверь, Груня в один прыжок оказалась в дальнем углу и затихла.
— Холодно тут, — сказала мама, осматриваясь. — На вот, налей попить.
Из крана потекло сначала рыжим, потом очистилось. Я набрала в плошку воды, поставила у кухонного стола рядом с блюдцем поменьше. Туда мама мелко нарезала оленину.
— Кис-кис, — попробовала я позвать Груню, но та осталась в углу, только глаза сощурила.
— Погоди, привыкнет, — мама вытащила калорифер в центр комнаты, щелкнула кнопкой. — Посидишь тут немного? Как разогреется, выключай. Нельзя его без присмотра оставлять, не дай бог загорится…
Груня сидела в углу, пока мама не захлопнула за собой дверь, взяв с меня обещание, что я дважды проверю, выдернута ли вилка из розетки, перед тем, как уйду. Дома в поселке горели яростно и безнадежно. Вспыхивали ночью, с треском разгорались, долго потом чадили обглоданными скелетами — черными и маслянистыми, и воняли так, что слезились глаза.
— Выключу, мам, — твердила я, пока она решалась меня оставить. — Иди.
Груня проследила за мной взглядом. Хвост напряженно стучал по полу. Я походила немного по чужой квартире — две комнаты, кухня, самодельные полки в коридоре, а на них ничего. Саляховы уехали на Материк, но думали еще вернуться и оставили в доме диван с покрывалом, два кресла и всякое по мелочи, вроде лампочки с рваным абажуром. Пока я рассматривала безногого медведя, заброшенного на балкон, Груня выбралась из угла и обошла квартиру вслед за мной. Я смотрела на нее, скосив глаза. Казалось, достаточного одного пристального взгляда, чтобы она снова залезла в спортивную сумку и осталась там до возвращения тети Нины.
Груня понюхала воду, потом оленину, ничего не тронула и осталась на пороге кухни. Я пододвинула калорифер к дивану и села на самый краешек. Теперь мы смотрели друг на друга, пристально изучая — кто ты такой? Она была удивительно красивой и тоненькой. Не кошка, а фигурка, нарисованная на ватмане. Такая же неподвижная, только усы легонько подрагивали. Хотелось позвать ее, но я не решалась. Хотелось погладить, но я чувствовала, что нельзя. Только смотреть.
От калорифера расходилось сухое тепло. У меня уже согрелись ноги, стали теплеть ладони и мочки ушей. Калорифер гудел и потрескивал, я смотрела на Груню, а Груня размышляла. И решилась, наконец. Поднялась и осторожно приблизилась. Ее голубые глаза были похожи на полярный день, такие же холодные и прозрачные. Легким прыжком она забралась на диван, пощупала подушку. Я увидела, как легко вытягиваются когти из ее мягкой лапки.
— Гру-уня, — позвала я, легонько похлопала по колену.
Но та опустилась рядом со мной так, чтобы не дотронуться. Подобрала под себя лапы, обернулась хвостом. Даже глаза прикрыла. И к потрескиванию калорифера прибавился еще один мерный звук — мурчание Груни, спокойное и нежное, убаюкивающее и ее, и меня.
— Ты чего тут спишь?
Бабушка пришла за мной, когда я и правда заснула на чужом диване. Груня лежала рядом, прислонившись пушистым боком к моему. Пришлось вставать, выключать калорифер и тащиться за бабушкой.
— Завтра приду, — пообещала я Груне, а та свернулась на подушке, согретой моим сонным телом, и осталась меня ждать.
До августа я ходила к Груне каждый день. Меняла воду, высыпала подсохшие кусочки мяса на подоконник, чтобы их склевали пуночки, включала калорифер и раскрывала книжку. Пока я читала, Груня устраивалась рядом, утаптывала диван, царапала легонечко то мою ногу, то подушку, которую я притащила из дома, чтобы сидеть было удобнее. Иногда я читала вслух, а Груня слушала:
— Перед ними открылась поразительная картина. Кошки-кошки-кошки. Черные, серые, полосатые и рыжие. Молоко из цистерн текло прямо в сотни блюдец, а рыбу просто сваливали, — проговаривала я знакомые слова, детских книжек у нас было немного. — Представляешь, в городе Моховой бороды целое нашествие кошек!
Груня поднимала узкую мордочку и смотрела на меня, сощурив глаза.
— Неужели вы испытываете ко всем эти кошкам такую огромную любовь, спросил Муфта, — продолжала я, а в ответ Груня терлась об край книжки.
Взять ее на руки, я не решалась. Цепенела от ее прикосновений и только радовалась, если мурчание становилось громче, когда я осторожно гладила палевый бок или темную ложбинку на шее.
— Опять к Саляховым пошла? — ворчала бабушка, но собирала мне бутерброды и чай в термосе. — Не торчи там долго, в тундру пойдем.
Но я торчала, пока за мной не приходили. И даже душистые заросли маков — желтые, оранжевые и белые с красной сердцевинкой, блекли на фоне пыльного дивана и мурчания кошки, примостившейся рядом. Я пропустила, как у куропаток вылупились птенчики. Как щенки Лайзы набрали вес и разбежались по другим сворам, как Мальчик задрал баклана, а Виктор Иванович его отбил и выходил. Я дважды перечитала историю Муфты, Бороды и Пол-Ботинка, а еще про волшебника Изумрудного города и детей капитана Гранта.
Полярный день начал тускнеть, тени удлинялись, ночью стали мерцать звезды, еще блеклые, но уже различимые. Скоро в поселок должны были вернуться те, кто уезжал на лето в отпуск. И я начала надеяться, что Груню оставят. Передумают, не вернутся вовсе, решат, что без нее им лучше, чем с ней. И мама сжалится, разрешит мне делать уроки в соседской квартире. Я буду решать примеры, а Груня сидеть на стопке учебников и наблюдать за мной, легонько подмуркивая.
— Ну как она зимой-то будет? — удивилась бабушка. — Без обогревателя там выстудится все за одну ночь.
Я молчала. Сестрице в городе дали отдельную комнату, и за лето она приезжала всего два раза. Уж на пару дней Груню можно будет вернуть в соседскую квартиру, а остальные пусть греется с нами. Ну, пожалуйста, мамочка. Я напишу все изложения на пятерку и примеров решу много-много. Просьба вертелась на языке. Я застывала перед мамой, пока она собиралась на работу — накручивала волосы на термобигуди и дула, чтобы не обжечь пальцы.
— Ты чего мнешься? — спрашивала она.
Я срывалась с места и бежала к Груне, садилась на диван и ждала, пока она вспрыгнет на спинку и потрется об меня лбом и краешком щеки.
А потом мама сказала, что с материка прилетел самолет.
— Дядя Юра уже звонил, сегодня приедут за Груней.
Сердце забилось так быстро, что майка задрожала в такт. Я умылась, сжевала яйцо с сосиской. Все молча.
— Игрушки с пола собери, — попросила бабушка, а сама начала пылесосить ковер в большой комнате.
Я перешагнула через гориллу Чарли и вышла в подъезд. Предметы стали четкими и острыми, в голове гулко стучало. Скоро приедут. Надо начать плакать. Так, чтобы слезы текли из глаз и носа одновременно. Так, чтобы в груди заболело. И дяде Юре меня стало жалко.
— Смотри, Лелечка, — скажет. — Мы тебе помидоров привезли. Как ты любишь, в банке.
Тетя Нина солила маленькие помидорчики. Они были на один зуб. Куснешь, а внутри они соленые и остренькие, потому что с красным перцем. У нас такие помидоры не росли, тетя Нина покупала их в городской теплице. Я за них душу готова была продать. Душу, но не Груню.
— Заберите свои помидоры, — отвечу. — А Груню мне оставьте. Нам с ней хорошо.
И они привезли. Дядя Юра остался в машине, а тетя Нина поставила на тумбочку красную спортивную сумку. Из нее торчали два напряженных кошачьих уха.
— Бабушка слегла, представляешь?.. — начала рассказывать тетя Нина.
Я протянула руку и почти дотронулась до светлого бока с темными шерстинками. Груня вздрогнула всем телом и забилась в угол сумки. Вспыхнули два голубых глаза.
— Осторожно, Лелечка, — попросила тетя Нина. — Она поцарапать может.
Груня услышала ее голос, выглянула наружу, осторожно переступила длинными лапами. Моя рука повисла совсем рядом, дотронуться без спроса я не решалась.
— Мы ее у Саляховых поселим, — сказала мама, наклонилась и опустила ладонь на палевую спинку. Груня выгнулась, уходя от прикосновения. — Калорифер поставим, не замерзнет там, не волнуйся.
Тетя Нина обняла нас всех по очереди, почесала Груню между ушей и вернулась к машине, дядя Юра как раз уже начал сигналить.
— Красивая какая, — протянула мама, разглядывая притихшую кошку. — Отнесешь ее сама? А я следом.
Можно было начать упрашивать. Но слезы щекотали в носу, только слово скажи и расплачешься. А плакать при маме — плохо. Зачем маму расстраивать, Лелечка, подумаешь, кошку нельзя дома оставить, ты чего как маленькая, переставай — обязательно скажет бабушка и тоже расстроится. Я сглотнула слезы, взяла сумку за ручки и потащила по лестнице наверх.
У Саляховых было гулко и пыльно. Окна без штор сквозили прозрачным светом, почти морозным, солоноватым на вкус. Груня выбралась из сумки, прижалась к полу и замерла так. Я стояла в дверях, смотрела, как подрагивает темный кончик ее хвоста. Нужно было возвращаться домой, там бабушка уже разогрела макароны по-флотски, и от плитки тянуло горячим воздухом — в соседской квартире у меня мигом замерзли ладони и уши, но мама уже поднялась к нам. Скрипнула дверь, Груня в один прыжок оказалась в дальнем углу и затихла.
— Холодно тут, — сказала мама, осматриваясь. — На вот, налей попить.
Из крана потекло сначала рыжим, потом очистилось. Я набрала в плошку воды, поставила у кухонного стола рядом с блюдцем поменьше. Туда мама мелко нарезала оленину.
— Кис-кис, — попробовала я позвать Груню, но та осталась в углу, только глаза сощурила.
— Погоди, привыкнет, — мама вытащила калорифер в центр комнаты, щелкнула кнопкой. — Посидишь тут немного? Как разогреется, выключай. Нельзя его без присмотра оставлять, не дай бог загорится…
Груня сидела в углу, пока мама не захлопнула за собой дверь, взяв с меня обещание, что я дважды проверю, выдернута ли вилка из розетки, перед тем, как уйду. Дома в поселке горели яростно и безнадежно. Вспыхивали ночью, с треском разгорались, долго потом чадили обглоданными скелетами — черными и маслянистыми, и воняли так, что слезились глаза.
— Выключу, мам, — твердила я, пока она решалась меня оставить. — Иди.
Груня проследила за мной взглядом. Хвост напряженно стучал по полу. Я походила немного по чужой квартире — две комнаты, кухня, самодельные полки в коридоре, а на них ничего. Саляховы уехали на Материк, но думали еще вернуться и оставили в доме диван с покрывалом, два кресла и всякое по мелочи, вроде лампочки с рваным абажуром. Пока я рассматривала безногого медведя, заброшенного на балкон, Груня выбралась из угла и обошла квартиру вслед за мной. Я смотрела на нее, скосив глаза. Казалось, достаточного одного пристального взгляда, чтобы она снова залезла в спортивную сумку и осталась там до возвращения тети Нины.
Груня понюхала воду, потом оленину, ничего не тронула и осталась на пороге кухни. Я пододвинула калорифер к дивану и села на самый краешек. Теперь мы смотрели друг на друга, пристально изучая — кто ты такой? Она была удивительно красивой и тоненькой. Не кошка, а фигурка, нарисованная на ватмане. Такая же неподвижная, только усы легонько подрагивали. Хотелось позвать ее, но я не решалась. Хотелось погладить, но я чувствовала, что нельзя. Только смотреть.
От калорифера расходилось сухое тепло. У меня уже согрелись ноги, стали теплеть ладони и мочки ушей. Калорифер гудел и потрескивал, я смотрела на Груню, а Груня размышляла. И решилась, наконец. Поднялась и осторожно приблизилась. Ее голубые глаза были похожи на полярный день, такие же холодные и прозрачные. Легким прыжком она забралась на диван, пощупала подушку. Я увидела, как легко вытягиваются когти из ее мягкой лапки.
— Гру-уня, — позвала я, легонько похлопала по колену.
Но та опустилась рядом со мной так, чтобы не дотронуться. Подобрала под себя лапы, обернулась хвостом. Даже глаза прикрыла. И к потрескиванию калорифера прибавился еще один мерный звук — мурчание Груни, спокойное и нежное, убаюкивающее и ее, и меня.
— Ты чего тут спишь?
Бабушка пришла за мной, когда я и правда заснула на чужом диване. Груня лежала рядом, прислонившись пушистым боком к моему. Пришлось вставать, выключать калорифер и тащиться за бабушкой.
— Завтра приду, — пообещала я Груне, а та свернулась на подушке, согретой моим сонным телом, и осталась меня ждать.
До августа я ходила к Груне каждый день. Меняла воду, высыпала подсохшие кусочки мяса на подоконник, чтобы их склевали пуночки, включала калорифер и раскрывала книжку. Пока я читала, Груня устраивалась рядом, утаптывала диван, царапала легонечко то мою ногу, то подушку, которую я притащила из дома, чтобы сидеть было удобнее. Иногда я читала вслух, а Груня слушала:
— Перед ними открылась поразительная картина. Кошки-кошки-кошки. Черные, серые, полосатые и рыжие. Молоко из цистерн текло прямо в сотни блюдец, а рыбу просто сваливали, — проговаривала я знакомые слова, детских книжек у нас было немного. — Представляешь, в городе Моховой бороды целое нашествие кошек!
Груня поднимала узкую мордочку и смотрела на меня, сощурив глаза.
— Неужели вы испытываете ко всем эти кошкам такую огромную любовь, спросил Муфта, — продолжала я, а в ответ Груня терлась об край книжки.
Взять ее на руки, я не решалась. Цепенела от ее прикосновений и только радовалась, если мурчание становилось громче, когда я осторожно гладила палевый бок или темную ложбинку на шее.
— Опять к Саляховым пошла? — ворчала бабушка, но собирала мне бутерброды и чай в термосе. — Не торчи там долго, в тундру пойдем.
Но я торчала, пока за мной не приходили. И даже душистые заросли маков — желтые, оранжевые и белые с красной сердцевинкой, блекли на фоне пыльного дивана и мурчания кошки, примостившейся рядом. Я пропустила, как у куропаток вылупились птенчики. Как щенки Лайзы набрали вес и разбежались по другим сворам, как Мальчик задрал баклана, а Виктор Иванович его отбил и выходил. Я дважды перечитала историю Муфты, Бороды и Пол-Ботинка, а еще про волшебника Изумрудного города и детей капитана Гранта.
Полярный день начал тускнеть, тени удлинялись, ночью стали мерцать звезды, еще блеклые, но уже различимые. Скоро в поселок должны были вернуться те, кто уезжал на лето в отпуск. И я начала надеяться, что Груню оставят. Передумают, не вернутся вовсе, решат, что без нее им лучше, чем с ней. И мама сжалится, разрешит мне делать уроки в соседской квартире. Я буду решать примеры, а Груня сидеть на стопке учебников и наблюдать за мной, легонько подмуркивая.
— Ну как она зимой-то будет? — удивилась бабушка. — Без обогревателя там выстудится все за одну ночь.
Я молчала. Сестрице в городе дали отдельную комнату, и за лето она приезжала всего два раза. Уж на пару дней Груню можно будет вернуть в соседскую квартиру, а остальные пусть греется с нами. Ну, пожалуйста, мамочка. Я напишу все изложения на пятерку и примеров решу много-много. Просьба вертелась на языке. Я застывала перед мамой, пока она собиралась на работу — накручивала волосы на термобигуди и дула, чтобы не обжечь пальцы.
— Ты чего мнешься? — спрашивала она.
Я срывалась с места и бежала к Груне, садилась на диван и ждала, пока она вспрыгнет на спинку и потрется об меня лбом и краешком щеки.
А потом мама сказала, что с материка прилетел самолет.
— Дядя Юра уже звонил, сегодня приедут за Груней.
Сердце забилось так быстро, что майка задрожала в такт. Я умылась, сжевала яйцо с сосиской. Все молча.
— Игрушки с пола собери, — попросила бабушка, а сама начала пылесосить ковер в большой комнате.
Я перешагнула через гориллу Чарли и вышла в подъезд. Предметы стали четкими и острыми, в голове гулко стучало. Скоро приедут. Надо начать плакать. Так, чтобы слезы текли из глаз и носа одновременно. Так, чтобы в груди заболело. И дяде Юре меня стало жалко.
— Смотри, Лелечка, — скажет. — Мы тебе помидоров привезли. Как ты любишь, в банке.
Тетя Нина солила маленькие помидорчики. Они были на один зуб. Куснешь, а внутри они соленые и остренькие, потому что с красным перцем. У нас такие помидоры не росли, тетя Нина покупала их в городской теплице. Я за них душу готова была продать. Душу, но не Груню.
— Заберите свои помидоры, — отвечу. — А Груню мне оставьте. Нам с ней хорошо.
В подъезде лежал Мальчик. Положил тяжелую голову на первую ступеньку, а задними лапами подпер дверь, чтобы сквозняк продувал. Снаружи его ждали остальные — Пуля и Кол, снова брюхатая Лайза. А Беззубку застрелили охотники, тот воровал уток из силков и не успел убежать. Мальчик разлепил глаза, посмотрел на меня внимательно и лениво ударил хвостом.
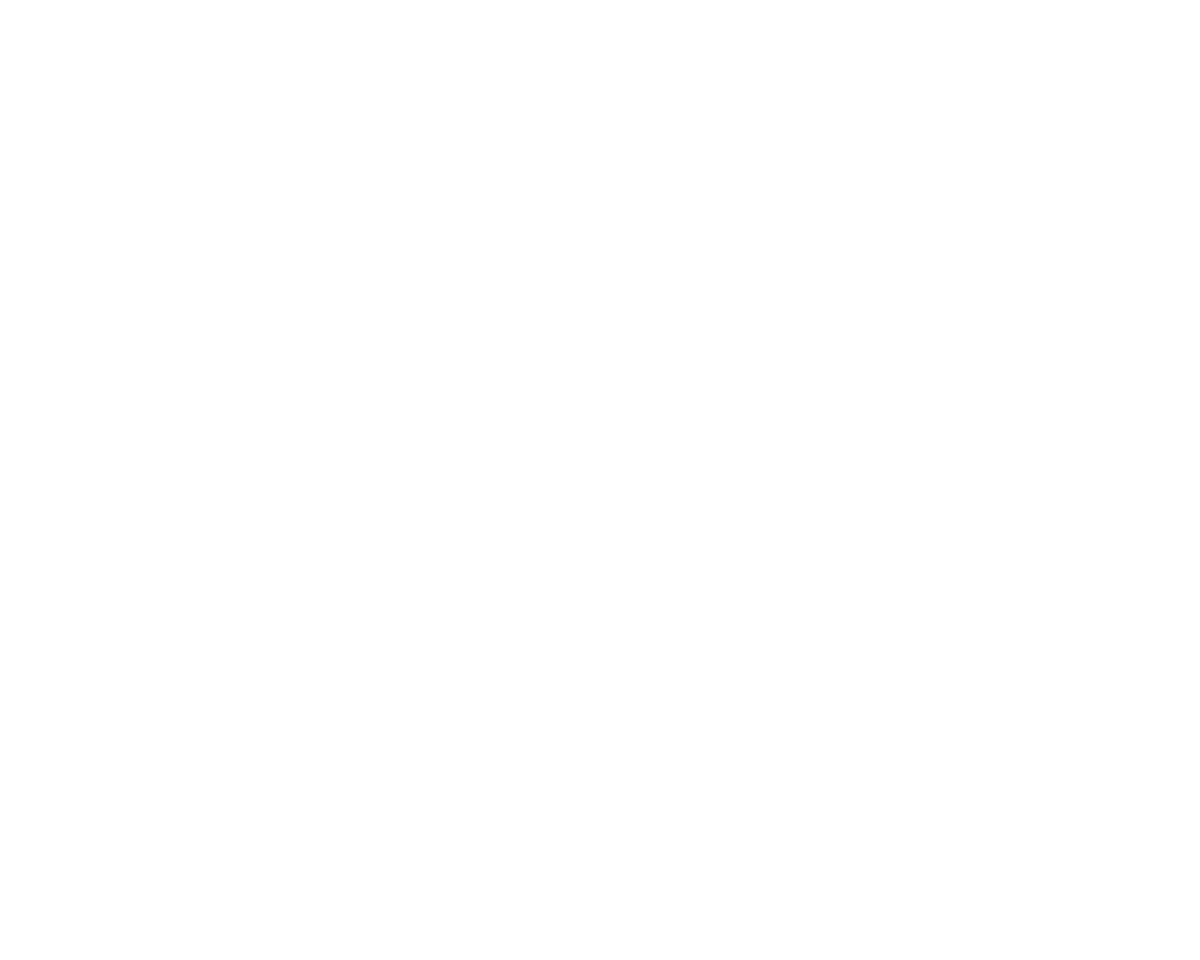
Я начала подниматься по лестнице и твердила беззвучно — буду за ней следить, мамочка. Менять воду и какашки убирать, только разреши. Пусть она с нами останется, мне очень нужна кошечка, славная кошечка, она меня любит, она сама приходит, мамочка, и лапкой меня мнет. У меня никого нет, только ты и бабуля, и Муфта с Бородой, а будет еще кошечка. Ну, пожалуйста. Я всему научилась уже. И чесать, и играть с ней фантиком, и оленину резать меленько-меленько. Мама меня не слышала, но обида кололось так, будто она уже отказала.
Замок у Саляховых заедал, дверь рассохлась и скрипела. Я толкнула ее плечом раз, чтобы открылась, и второй, чтобы захлопнулась. Груня сидела на подоконнике и следила за пуночками. Те скакали по скосу окна и чирикали. Груня подняла лапу, застыла так. Ни ударить их через стекло, ни поймать. Но увидела меня и успокоилась, спрыгнула на пол, потерлась об ноги, замурчала.
Я всхлипнула, отпихнула ее и пошла наливать свежей воды. Может, тетя Нина увидит, как я слежу за кошкой и поверит, что можно ее оставить. Не навсегда, хоть на недельку еще. Пусть поживет до осени. Что им жалко что ли? Я уже плакала, утирала щеки и нос мокрым кулаком, а вода из под крана казалась ледяной, такими горячими были слезы.
— Груня, — позвала я, опускаясь на корточки. — Иди сюда! Кис-кис.
Она давно привыкла к моему голосу. Откликалась и шла на него, выгнув хвост. Только коготки стучали по полу. А тут ничего. Тишина.
— Груня! — крикнула я погромче.
В ответ раздался скрип. Я поднялась и сразу почувствовала, что в квартире кроме меня никого нет. Свет за окном потускнел, пуночки затихли. И только сквозняк легонько покачивал приоткрытую дверь. Я выскочила в подъезд и замерла, прислушиваясь. На лестничном пролете второго этажа Груни не было. Пол под моими ногами покачнулся, я схватилась за перила и медленно спустилась на одну ступеньку, потом на другую. Через третью я перепрыгнула. На четвертой услышала приглушенный рык.
— Мальчик! — голос был не мой, но горло от него зассадило у меня. — Мальчик, фу!
Груня прижалась к нашей двери. Оббитая войлоком, та заглушала звуки, чтобы Виктор Иванович не будил нас пьяными песнями. Мальчик уже поднялся на лапы и оголил клыки.
— Мальчик! — я бросилась между ним и кошкой. — Не смей! Фу! Фу!
Он с трудом отвел налитые кровью глаза от Груни. Иссиня-черная шерсть на его холке поднялась, верхняя губа подрагивала. Махнул хвостом, но зарычал.
— Мальчик… — я вскинула перед собой руки. — Фу!..
Он уже пятился, присаживаясь на задние лапы. И смотрел сквозь меня. Туда, где сдавленно шипела Груня, прижавшись боком к моей ноге в пижамных штанишках. За Мальчиком уже скулили от нетерпения Кол и Пуля, он закрывал собой всю лестницу. Им оставалось ждать, изнывая от предвкушения.
— Не надо, фу.. Фу…
Виктор Иванович учил, что нельзя поворачиваться к зверю спиной. Уходи боком, как хочешь уходи, но спиной не смей, сразу бросится. И не дергайся особо. А лучше на землю ложись и лежи. Под хриплый рык я опустилась на колени. Бетонный пол в подъезде был шершавым и затоптанным. Груня сдавленно пискнула, когда я схватила ее и спрятала под собой. Мальчик всхрапнул, но остался на месте. От него пахло мокрой псиной и чем-то сладковатым. Я спрятала лицо в ладонях и застыла так. Груня подо мной дрожала все тише, а потом начала мурчать.
— Вы чего тут? — раздался голос дяди Юры с улицы, где надсадно залаяла Лайза. — Ну-ка, пошли! Пошли, говорю!
Мальчик обошел меня, замершую на полу, и начал подниматься по лестнице, унося за собой тяжелый собачий дух и недовольный рык.
— Лелечка!.. — закричала тетя Нина — Покусали?! Ира! Ира!
Бабушка плакала до самого вечера. То обнимала меня, то начинала ругать, а я прижимала Груню к животу и смотрела на банку помидоров, которую дядя Юра выставил на стол, чтобы отвлечь меня, пока мама обрабатывала йодом мои стесанные ладони.
— Разорвали бы! — говорили они сразу все. — Враз бы разорвали. Что кошку, что Лельку нашу. Нет, ну Мальчик бы Лельку не тронул. Да что ты говоришь? Он зверюга! Их отстреливать надо. Юра, глупости не говори. Не тронул бы он. Да я их еле отогнал. Это она за кошкой пошла, да, Лель? Так она вашу кошку полюбила, слов нет. Все лето к ней моталась. Вон руки разбила. Слышите, как Грунька мурчит, никогда нам не мурчала, а тут как трактор. Лель, а давай мы тебе ее на зиму оставим, хочешь?
И замолчали. Банка блестела на закатном солнце. Оно било через приоткрытую форточку и тюль, а само было красным, как помидор. Груня мурчала на моих руках, теплая и тяжелая. Живая. Главное, что живая. В поселке кошек не держали. В поселке кормили собак. Были их ручными людьми. Я облизала губы. Они были солеными.
— Увезите ее. Пожалуйста.
Замок у Саляховых заедал, дверь рассохлась и скрипела. Я толкнула ее плечом раз, чтобы открылась, и второй, чтобы захлопнулась. Груня сидела на подоконнике и следила за пуночками. Те скакали по скосу окна и чирикали. Груня подняла лапу, застыла так. Ни ударить их через стекло, ни поймать. Но увидела меня и успокоилась, спрыгнула на пол, потерлась об ноги, замурчала.
Я всхлипнула, отпихнула ее и пошла наливать свежей воды. Может, тетя Нина увидит, как я слежу за кошкой и поверит, что можно ее оставить. Не навсегда, хоть на недельку еще. Пусть поживет до осени. Что им жалко что ли? Я уже плакала, утирала щеки и нос мокрым кулаком, а вода из под крана казалась ледяной, такими горячими были слезы.
— Груня, — позвала я, опускаясь на корточки. — Иди сюда! Кис-кис.
Она давно привыкла к моему голосу. Откликалась и шла на него, выгнув хвост. Только коготки стучали по полу. А тут ничего. Тишина.
— Груня! — крикнула я погромче.
В ответ раздался скрип. Я поднялась и сразу почувствовала, что в квартире кроме меня никого нет. Свет за окном потускнел, пуночки затихли. И только сквозняк легонько покачивал приоткрытую дверь. Я выскочила в подъезд и замерла, прислушиваясь. На лестничном пролете второго этажа Груни не было. Пол под моими ногами покачнулся, я схватилась за перила и медленно спустилась на одну ступеньку, потом на другую. Через третью я перепрыгнула. На четвертой услышала приглушенный рык.
— Мальчик! — голос был не мой, но горло от него зассадило у меня. — Мальчик, фу!
Груня прижалась к нашей двери. Оббитая войлоком, та заглушала звуки, чтобы Виктор Иванович не будил нас пьяными песнями. Мальчик уже поднялся на лапы и оголил клыки.
— Мальчик! — я бросилась между ним и кошкой. — Не смей! Фу! Фу!
Он с трудом отвел налитые кровью глаза от Груни. Иссиня-черная шерсть на его холке поднялась, верхняя губа подрагивала. Махнул хвостом, но зарычал.
— Мальчик… — я вскинула перед собой руки. — Фу!..
Он уже пятился, присаживаясь на задние лапы. И смотрел сквозь меня. Туда, где сдавленно шипела Груня, прижавшись боком к моей ноге в пижамных штанишках. За Мальчиком уже скулили от нетерпения Кол и Пуля, он закрывал собой всю лестницу. Им оставалось ждать, изнывая от предвкушения.
— Не надо, фу.. Фу…
Виктор Иванович учил, что нельзя поворачиваться к зверю спиной. Уходи боком, как хочешь уходи, но спиной не смей, сразу бросится. И не дергайся особо. А лучше на землю ложись и лежи. Под хриплый рык я опустилась на колени. Бетонный пол в подъезде был шершавым и затоптанным. Груня сдавленно пискнула, когда я схватила ее и спрятала под собой. Мальчик всхрапнул, но остался на месте. От него пахло мокрой псиной и чем-то сладковатым. Я спрятала лицо в ладонях и застыла так. Груня подо мной дрожала все тише, а потом начала мурчать.
— Вы чего тут? — раздался голос дяди Юры с улицы, где надсадно залаяла Лайза. — Ну-ка, пошли! Пошли, говорю!
Мальчик обошел меня, замершую на полу, и начал подниматься по лестнице, унося за собой тяжелый собачий дух и недовольный рык.
— Лелечка!.. — закричала тетя Нина — Покусали?! Ира! Ира!
Бабушка плакала до самого вечера. То обнимала меня, то начинала ругать, а я прижимала Груню к животу и смотрела на банку помидоров, которую дядя Юра выставил на стол, чтобы отвлечь меня, пока мама обрабатывала йодом мои стесанные ладони.
— Разорвали бы! — говорили они сразу все. — Враз бы разорвали. Что кошку, что Лельку нашу. Нет, ну Мальчик бы Лельку не тронул. Да что ты говоришь? Он зверюга! Их отстреливать надо. Юра, глупости не говори. Не тронул бы он. Да я их еле отогнал. Это она за кошкой пошла, да, Лель? Так она вашу кошку полюбила, слов нет. Все лето к ней моталась. Вон руки разбила. Слышите, как Грунька мурчит, никогда нам не мурчала, а тут как трактор. Лель, а давай мы тебе ее на зиму оставим, хочешь?
И замолчали. Банка блестела на закатном солнце. Оно било через приоткрытую форточку и тюль, а само было красным, как помидор. Груня мурчала на моих руках, теплая и тяжелая. Живая. Главное, что живая. В поселке кошек не держали. В поселке кормили собак. Были их ручными людьми. Я облизала губы. Они были солеными.
— Увезите ее. Пожалуйста.
