Ольга Птицева
Про Мальчика
рассказ из автофикшн-цикла о детстве на Крайнем Севере
Мне было девять, когда Мальчика застрелили. Мы пошли смотреть на него втроем — мама, бабушка и я. Стоял сырой июль — мелкая мошка уже поднялась с болот и начала жужжать, забиваться в рот и нос. Липла на коже и пила кровь. Пила, пока не прихлопнешь. И еще немного потом.
Мы шли по узкому деревянному коробу, положенному сверху труб, прикрытых теплым, чтобы не проморозились и не лопнули. Короб скрипел. С него только сошла последняя наледь. Я осторожно переступала ногами. Помню, что комбинезон — синий и скрипучий, на рыхлом синтепоне, задрался, и голые щиколотки тут же замерзли.
Нужно было остановиться и поправить штанины. Я все думала — вот дойдем до столба, и остановлюсь. Вот дойдем до большого, выше меня ростом, камня, поблескивающего медными прожилками, и остановлюсь. Вот дойдем до вытянутого здания в один этаж, и остановлюсь. Мы все остановились, когда подошли к нему. Из его расколоченных окон тянуло тревогой. Так всегда пахнет в больнице. Особенно в брошенной, с выбитыми стеклами. Особенно в той, где прошлой ночью застрелили Мальчика.
Он лежал в кабинете главврача. Так сказал мужик из артели:
— У Милинского в кабинете валяется.
Он еще что-то говорил маме, пока топтался в подъезде, вешал тяжеленный замок, чтобы мы смогли запираться на ночь, а-то мало ли, какие люди шастают. Известно какие. Те, что привели Мальчика в старую поликлинику и застрелили.
— Давайте сходим, — попросила я, когда мама вернулась с ключами от нового замка. — Давайте прямо сейчас к нему сходим.
Нельзя было не пойти, оставить его там лежать еще одну ночь, и еще день. И потом еще, сколько простоит выпотрошенная поликлиника, пока не рухнет, не укроет собой Мальчика вместе с кабинетом главврача. Нет, так я, конечно, не думала. Мне было девять. Я думала о том, что Мальчик давно уже не приходил — суток трое. Такого с ним не бывало. Загуляет в тундре. Забегается по делам. А к утру все равно приходит. Стучится в дверь, просится внутрь. В тепло.
Я всегда просыпалась от этого стука. Перелезала через бабушку, спускалась на пол и шла к двери. Ковер заглушал мои шаги, и они не тревожили плотную, домашнюю дрему. Все — молча. Все — сквозь зыбкий сон. Мальчик вваливался за порог, сопел благодарно и тут же затихал.
А тут ничего. Ни стука, ни сопения. По двору бродили ошалелые дворняги — гавкали, подвывали коротко, нюхали воздух. И я вместе с ними задирала голову к бессонному небу. В июле солнце не успевает уйти за сопки, и небо постоянно светлое, до жути высокое, бесконечно уходящее куда-то вверх этой своей подкрашенной в розовое глубиной. Под таким небом обычно умирали старики. Летом они уходили вереницами. Прямо из постелей на вершину сопок. И дальше. В полярное никуда. Вот и Мальчик ушел.
— Надо сходить, Ир, — поддержала меня бабушка. — Может, оттащим его. Что он там лежать будет? Не по-человечески… — поджала губы. — Вот же горюшко.
— Да куда мы его оттащим? Тяжеленный. Прикрыть только если.
Мама смотрела в сторону, прятала от меня глаза. Боялась, наверное, что я закричу. Заплачу. Или одна побегу к поликлинике, пока они тут мнутся и решаются. Мне не хотелось ни кричать, ни плакать. Только сходить к Мальчику, чтобы он не подумал, что мы так быстро о нем забыли.
Широкое окно кабинета выходило во двор — серые камни и мохнатые кустики ивы. Стекло уже разбили, и темнота прорезалась через дыру с острыми краями, виднелась в трещинах, что расползались от нее во все стороны. Хотелось проверить, побегут ли дальше, если ткнешь? Побегут, разрежут собой оставшееся цельным, и стекольная крошка посыплется вниз.
Мне нужно было увидеть Мальчика первой. Нужно было понять, что это на самом деле. С нами. Прямо сейчас. Мама поймала меня за капюшон, но я вывернулась. Схватилась за скошенный отлив, краска шла колючими пузырями, оперлась и заглянула внутрь.
У стола, опрокинутого на бок, были разбросаны бумаги и папки. Пахло отсыревшим картоном и немного спиртом. Мальчик лежал у стола. Опрокинутый как стол, такой же брошенный, такой же неживой, остывающий на полу. Его привели сюда. Заманили. Приставили к широкому лбу дуло охотничьего ружья и выстрелили. А теперь солнце било в окно, и казалось, что Мальчик скалится — из-под губы поблескивали зубы. А шуба его — мохнатая, иссиня-черная, с вырванным на боку клоком, поглощала этот свет. Оставляла в себе. Я и сейчас помню, как тепло было под ней, у самой кожи, если схватиться покрепче. Мальчик всегда терпел, ждал, пока согреешь пальцы, поскуливал только. И бил тяжелым хвостом о снег.
Его привезли в поселок соседи. Года за три до моего рождения. Мне, привыкшей к его могучести, сложно было представить, что он когда-то был щенком. Толстолапым, лобастым кутенком с нежной шкурой. Ел из плошки, спал на ковре. И рос. Постоянно рос. Из щенка в собаку. Из собаки в зверя. Он выходил из дома, распахивая дверь лапой, а к нему неслись на полусогнутых другие — разномастные, пятнистые, одичалые. Неслись, чтобы вылизать морду, выскулить право быть в стае. Мальчик смотрел на них с презрением породистого пса, знающего, что дома его ждет миска и ковер. Но позволял себя лизать. Когда соседи собрали всю свою жизнь в один контейнер, места для Мальчика в нем не нашлось. И Мальчик остался с нами. Сторожил меня, пока я спала в коляске у крыльца. Ни один пес, охмелевший от гона и голода, не смел залаять, если Мальчик ложился у последней ступени и ждал, когда я проснусь.
Мы шли по узкому деревянному коробу, положенному сверху труб, прикрытых теплым, чтобы не проморозились и не лопнули. Короб скрипел. С него только сошла последняя наледь. Я осторожно переступала ногами. Помню, что комбинезон — синий и скрипучий, на рыхлом синтепоне, задрался, и голые щиколотки тут же замерзли.
Нужно было остановиться и поправить штанины. Я все думала — вот дойдем до столба, и остановлюсь. Вот дойдем до большого, выше меня ростом, камня, поблескивающего медными прожилками, и остановлюсь. Вот дойдем до вытянутого здания в один этаж, и остановлюсь. Мы все остановились, когда подошли к нему. Из его расколоченных окон тянуло тревогой. Так всегда пахнет в больнице. Особенно в брошенной, с выбитыми стеклами. Особенно в той, где прошлой ночью застрелили Мальчика.
Он лежал в кабинете главврача. Так сказал мужик из артели:
— У Милинского в кабинете валяется.
Он еще что-то говорил маме, пока топтался в подъезде, вешал тяжеленный замок, чтобы мы смогли запираться на ночь, а-то мало ли, какие люди шастают. Известно какие. Те, что привели Мальчика в старую поликлинику и застрелили.
— Давайте сходим, — попросила я, когда мама вернулась с ключами от нового замка. — Давайте прямо сейчас к нему сходим.
Нельзя было не пойти, оставить его там лежать еще одну ночь, и еще день. И потом еще, сколько простоит выпотрошенная поликлиника, пока не рухнет, не укроет собой Мальчика вместе с кабинетом главврача. Нет, так я, конечно, не думала. Мне было девять. Я думала о том, что Мальчик давно уже не приходил — суток трое. Такого с ним не бывало. Загуляет в тундре. Забегается по делам. А к утру все равно приходит. Стучится в дверь, просится внутрь. В тепло.
Я всегда просыпалась от этого стука. Перелезала через бабушку, спускалась на пол и шла к двери. Ковер заглушал мои шаги, и они не тревожили плотную, домашнюю дрему. Все — молча. Все — сквозь зыбкий сон. Мальчик вваливался за порог, сопел благодарно и тут же затихал.
А тут ничего. Ни стука, ни сопения. По двору бродили ошалелые дворняги — гавкали, подвывали коротко, нюхали воздух. И я вместе с ними задирала голову к бессонному небу. В июле солнце не успевает уйти за сопки, и небо постоянно светлое, до жути высокое, бесконечно уходящее куда-то вверх этой своей подкрашенной в розовое глубиной. Под таким небом обычно умирали старики. Летом они уходили вереницами. Прямо из постелей на вершину сопок. И дальше. В полярное никуда. Вот и Мальчик ушел.
— Надо сходить, Ир, — поддержала меня бабушка. — Может, оттащим его. Что он там лежать будет? Не по-человечески… — поджала губы. — Вот же горюшко.
— Да куда мы его оттащим? Тяжеленный. Прикрыть только если.
Мама смотрела в сторону, прятала от меня глаза. Боялась, наверное, что я закричу. Заплачу. Или одна побегу к поликлинике, пока они тут мнутся и решаются. Мне не хотелось ни кричать, ни плакать. Только сходить к Мальчику, чтобы он не подумал, что мы так быстро о нем забыли.
Широкое окно кабинета выходило во двор — серые камни и мохнатые кустики ивы. Стекло уже разбили, и темнота прорезалась через дыру с острыми краями, виднелась в трещинах, что расползались от нее во все стороны. Хотелось проверить, побегут ли дальше, если ткнешь? Побегут, разрежут собой оставшееся цельным, и стекольная крошка посыплется вниз.
Мне нужно было увидеть Мальчика первой. Нужно было понять, что это на самом деле. С нами. Прямо сейчас. Мама поймала меня за капюшон, но я вывернулась. Схватилась за скошенный отлив, краска шла колючими пузырями, оперлась и заглянула внутрь.
У стола, опрокинутого на бок, были разбросаны бумаги и папки. Пахло отсыревшим картоном и немного спиртом. Мальчик лежал у стола. Опрокинутый как стол, такой же брошенный, такой же неживой, остывающий на полу. Его привели сюда. Заманили. Приставили к широкому лбу дуло охотничьего ружья и выстрелили. А теперь солнце било в окно, и казалось, что Мальчик скалится — из-под губы поблескивали зубы. А шуба его — мохнатая, иссиня-черная, с вырванным на боку клоком, поглощала этот свет. Оставляла в себе. Я и сейчас помню, как тепло было под ней, у самой кожи, если схватиться покрепче. Мальчик всегда терпел, ждал, пока согреешь пальцы, поскуливал только. И бил тяжелым хвостом о снег.
Его привезли в поселок соседи. Года за три до моего рождения. Мне, привыкшей к его могучести, сложно было представить, что он когда-то был щенком. Толстолапым, лобастым кутенком с нежной шкурой. Ел из плошки, спал на ковре. И рос. Постоянно рос. Из щенка в собаку. Из собаки в зверя. Он выходил из дома, распахивая дверь лапой, а к нему неслись на полусогнутых другие — разномастные, пятнистые, одичалые. Неслись, чтобы вылизать морду, выскулить право быть в стае. Мальчик смотрел на них с презрением породистого пса, знающего, что дома его ждет миска и ковер. Но позволял себя лизать. Когда соседи собрали всю свою жизнь в один контейнер, места для Мальчика в нем не нашлось. И Мальчик остался с нами. Сторожил меня, пока я спала в коляске у крыльца. Ни один пес, охмелевший от гона и голода, не смел залаять, если Мальчик ложился у последней ступени и ждал, когда я проснусь.
Меня шестилетнюю отпускали с ним в тундру. Я в розовом пуховике на ватной подкладке, и он — огромный, как белый медведь-шатун, только черный и ручной. Мы искали бруснику за детским садом. Позади нас тихонько умирал поселок, стиснутый вечными льдами. А впереди лежали три сопки, багряные от брусники. Ягоды красили мне пальцы, пока я срывала их с низких кустиков и тут же совала за щеку, морщилась, но жевала. На вкус брусника была летом. Коротким и горьким. Мальчик сидел рядом и не сводил с меня глаз.
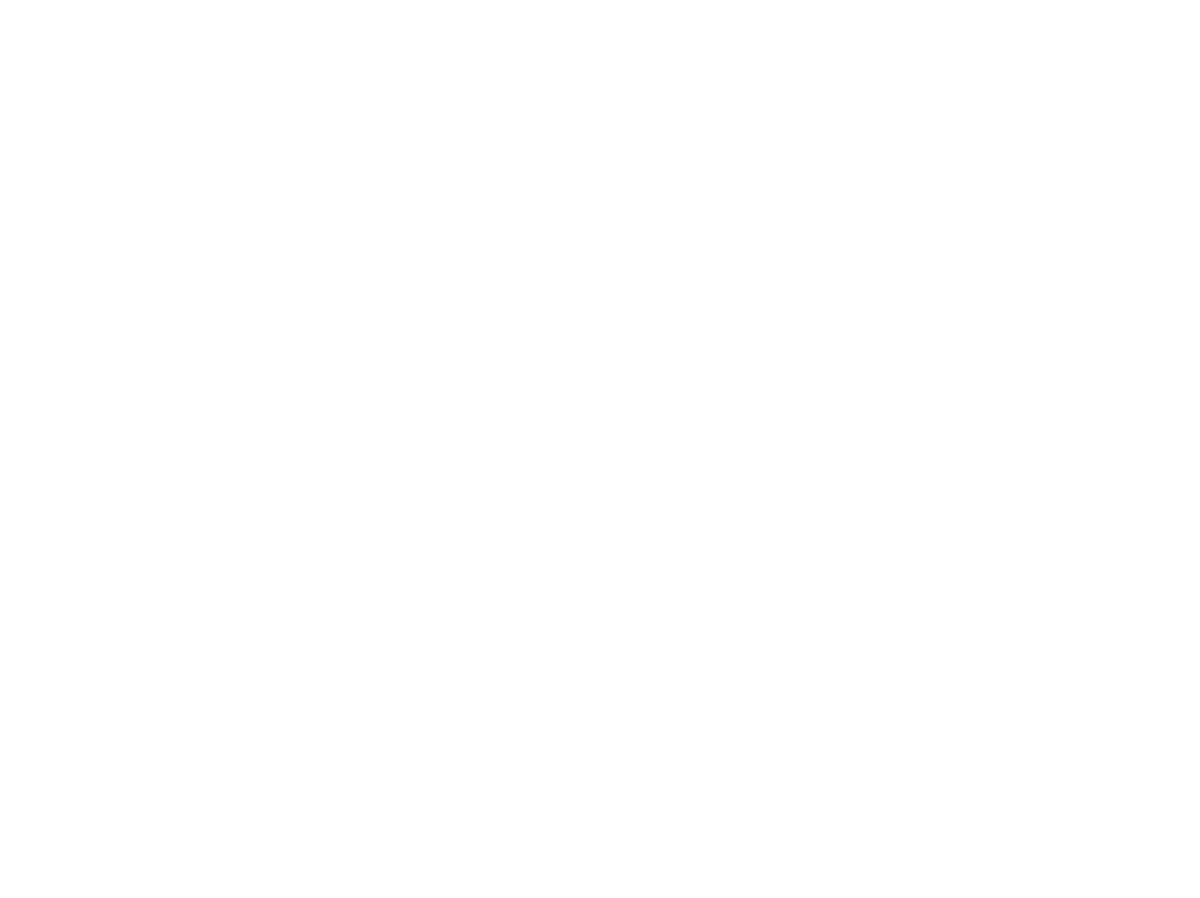
Под кочками пищали евражки, Мальчик вел ухом, но не двигался. Он мог поймать их, сжать зубами, проглотить в два укуса. Но ждал, пока я наемся первой. Пока оборву весь куст и пойду по вытоптанной тропинке к дому. Тогда он уходил в сторону сопок, и евражий писк стихал. Во двор мы возвращались перепачканные — я в брусничном соке, а Мальчик в крови. И это было правильно. Закон тундры, отданной нам на короткий месяц лета.
Кровь, стекшая из приоткрытой пасти Мальчика прямо на затоптанный пол, правильной не была. Ей не было места в мире, где Мальчик догонял меня во дворе, осторожно подхватывал ладошку зубами, легонько прикусывая, и вел так к качелям, обводя мимо камней и выбоин. Где я тянула его за уши, чтобы он не убегал по собачьим своим делам, пока мы шли на площадь к хлебной лавке. Теперь его большая голова была откинута, а глаза прикрыты вывернутым наружу ухом. Из-под него уже не текло, запеклось темной коркой.
— Не смотри, — попросила бабушка, притянула к себе, отвела от окна.
Бабушка пахла лавандовой водой. Я дышала ей, пока мама открывала скрипучую дверь поликлиники, пока шла по коридору, прямо по скинутым на пол больничным карточкам, пока укрывала Мальчика шторой, чудом оставшейся на окне.
А может, этого не было. Может, мы вообще туда не ходили. Может, оставили Мальчика там. Может, попросили соседа закопать его на краю тундры. Мне было девять. Я мало, что помню. Только лавандовую воду, ей пахло бабушкино пальто. Только дворовых псов — разномастных, пятнистых и одичалых, они выли всю ночь у разбитых окон поликлиники. И снег, что выпал к утру.
Кровь, стекшая из приоткрытой пасти Мальчика прямо на затоптанный пол, правильной не была. Ей не было места в мире, где Мальчик догонял меня во дворе, осторожно подхватывал ладошку зубами, легонько прикусывая, и вел так к качелям, обводя мимо камней и выбоин. Где я тянула его за уши, чтобы он не убегал по собачьим своим делам, пока мы шли на площадь к хлебной лавке. Теперь его большая голова была откинута, а глаза прикрыты вывернутым наружу ухом. Из-под него уже не текло, запеклось темной коркой.
— Не смотри, — попросила бабушка, притянула к себе, отвела от окна.
Бабушка пахла лавандовой водой. Я дышала ей, пока мама открывала скрипучую дверь поликлиники, пока шла по коридору, прямо по скинутым на пол больничным карточкам, пока укрывала Мальчика шторой, чудом оставшейся на окне.
А может, этого не было. Может, мы вообще туда не ходили. Может, оставили Мальчика там. Может, попросили соседа закопать его на краю тундры. Мне было девять. Я мало, что помню. Только лавандовую воду, ей пахло бабушкино пальто. Только дворовых псов — разномастных, пятнистых и одичалых, они выли всю ночь у разбитых окон поликлиники. И снег, что выпал к утру.
